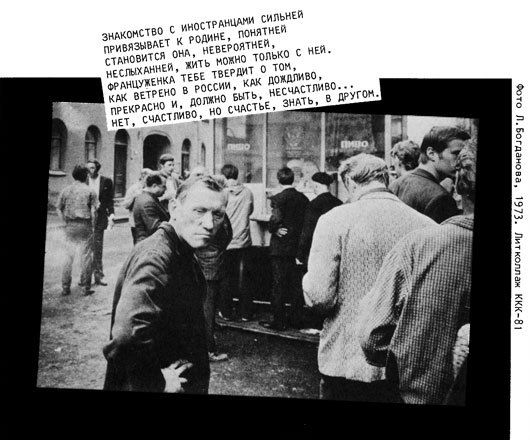|
"Один Чейгин бросался в баб стаканами.
За это его приняли в Союз писателей."
/Сказочка про Петю Чейгина/
"Если ты надел очки, так будь умным."
/Как говорил учитель Ники
Валентиновны/
|
Он такой тихий, такой приличный, что его даже в Союз писателей без разговоров
приняли. А ведь печататься Кушнер начал в "Синтаксисе" /№3/. Но и "Синтаксис" не
помог. Стал Кушнер членом Союза писателей.
Иду я по Невскому в каком-то семидесятом году, с Гришкой-слепым и Витей
Соколовым /"Рыжая кошка"/. Вышли мы из "Кафе-Автомата" на углу Рубинштейна, под
мышками у меня два градусника бормотухи, в карманах - закусь, два бутерброда,
полагаю, что с сыром. Или с "Любительской". А по той стороне Кушнер идет, Кошка
заметил. "Давай, - говорит, - Кушнера пригласим!" Догоняем у "Авроры". Бежит он
при галстуке, с портфелем, и с каким-то мудаком. "Саша, - говорю, - пошли, -
говорю, - в парадняк, задвинем портвейнового!" "Вы знаете, -
говорит, - Костя, я
сейчас никак не могу, мне в Москву звонить надо." "Да на ... Вам эта Москва
сдалась, - говорю, - Саша! Пойдем, сейчас засосем из горла, бутерброды есть,
закусь." /Я, как Кушнера вижу, сразу материться начинаю, уж очень он приличный!/
"Да нет, Вы знаете, я бы с удовольствием, я сейчас никак не могу..." "Ну ... Бог
с Вами, Саша." Пошли мы в парадняк одни.
А надобно отметить, что когда я окрошку варил для Сюзанны Масси в 68-м году, и
она у меня весь квас выпила, грибом чайным пришлось разбавлять, Геля Донской
додумался, Кушнер у меня так нарезался, что изчез, не простившись. Через два
часа звонок: "Вы знаете, я ушел не простившись, так что сейчас звоню, чтобы
извиниться." Ай, да Саша! Понимаете, почему я всегда при нем матерюсь?
Дядюшку его Маяковский называл "Скушнером". Это у них фамильное. Мальчик из
приличной семьи, с профессорской квартирой, кончил он Педагогический институт, и
года на три постарше меня будет. Работал учителем, в том числе и в трудколонии.
Об этом он пишет:
Я ставлю мальчикам колы,
А девочкам - пятерки.
В очках, и всегда чисто выбритый. При галстуке тоже. Но Кушнеру это идет.
Чрезвычайно застенчивый /хоть бы раз послал меня, я бы ему все простил - так нет
же! Образование не позволяет./ А ежели говорить всерьез, так Кушнер - самый
образованный поэт в Ленинграде. Мне приходилось править стихи Горбовского,
Бродского, не говоря уже о Сосноре, и лишь у Кушнера нельзя найти НИ ОДНОГО
огреха. Кушнер - истинный наследник своих любимых Тютчева и Анненского /кстати,
и биографически - Тютчев был чиновником, Анненский - директором Сарскосельского
лицея. Кушнер выше учителя не пошел, но и времена не те!/ А то, что он
единственный грамотный человек на все Ленинградское отделение Союза писателей
/по секции поэзии, в секции переводчиков были Эткинд, Гнедич и т.д./, так это,
после смерти Ахматовой - непреложный факт. Моя бывая четвертая супруга, Ника Валентиновна, назвала его "поэтом в спичечном коробке". Но это
уже зло. Для меня поэзия Кушнера - прозрачнейший родничок, с кристально-чистой
водой. Из самых сокровенных глубин русской поэзии 19-го века. Поэзия же Глеба
Горбовского - как Волга: дерьмо всякое плывет, собаки дохлые, мазут тоже. Но
ведь шли зачерпнуть шеломом не к родничку, а - к Волге!
Кушнер эстетически чужд большинству современных поэтов, включая и Соснору, и
Бродского. От дядюшки-футуриста он не унаследовал - ничего. Почему же он друг
Сосноры, Горбовского, Бобышева, Бродского, да и мой тоже /ежели не обозлится на
это предисловие/? Как он попал в эту "компанию", сугубо несоответствующую ему?
Да потому что и Кушнер принадлежит к той же "люмпен-интеллигенции", потому что
ему гораздо более чужды советские писатели.
Иду я году в 70-м по Литейному с Васькой Бетаки, а навстречу - задрипанный,
потертый человечек в рваных штанах. "Это, - говорит мне Васька, - лучший
специалист по пиратам и флибустьерам, Николай Внуков." Правильно, так лучший
специалист и должен выглядеть - кому в Советском Союзе нужны пираты и
флибустьеры? Камо и Сталин просто грабежами занимались, без всякой
капитан-бладовщины. Раскулачивание надо описывать, а не флибустьеров. Идем
дальше. А навстречу - еще одна фигура, в добротном на сей раз костюме, с сытой
мордой и книжку к груди прижимает. Поговорил с ним Васька, дальше идем. "Это
Сергей Давыдов был?" "Да, а ты его знаешь?" "Нет, - говорю, - первый раз вижу.
Только по морде и по костюму - явный член Союза писателей. А на книжке написано
- Сергей Давыдов. Нешто член Союза писателей чьи-нибудь книжки читать будет,
кроме своих? Так и дошел, дедукцией."
Так вот, Кушнер на члена Союза писателей не похож. А похож он на приличного
человека. Каков и есть. Но мне при нем все равно хочется материться, поэтому
передаю слово Сюзанне Масси:
/см. "The Living Mirror" by Suzanne Massie, Doubleday, 1972/
И еще одно мое
"предисловие" /1974/:
|
Александр С. Кушнер
О Кушнере всё знают в Италии /см. у Сюзанны Масси/. Я о нём ничего не знаю. Не
нужно предисловий. Он просто похож на свои стихи. Аккуратность, кристалльность,
классичность. Не люблю школьных учителей. Их любят в Италии. Страна классицизма!
"Имею смелость заявить себя варваром"/В.И.Ленин/. Поэзия - искусство варварское,
дикое. Поэтому она и процветает в России. Там её любят. Как говорил ком. полка,
в котором служил Миша Генделев:
"Приходи ко мне в берлогу,
отъебу и вырву ногу!"
И правильно говорил. Ах, Саша, Саша! А ведь Бенвенуто Челлини именно так и
выражался. Но это было ещё до классицизма, которому Вы служите.
К.К.
|
Этот текст имеется в первом сборнике Кушнера, но у меня его нет, и даже названия
не помню, поэтому цитирую по памяти, как услышал его 14 февраля 1960 г. на
первом и последнем "Турнире поэтов":
|
.....................................
Бледнеют спортивные игры
Пред этой - с пудами в руке.
Арбузы, зеленые тигры,
Сидят за решеткой в ларьке.
И сам продавец, укротитель,
Ирины Бугримовой брат,
Питомцев своих - посмотрите!
-
Выводит /....../ на парад.
Он что их, из Африки вывез?
От страха не стыдно упасть:
Он делает ножиком вырез,
И чмокает красная пасть.
- Ах, Вы мне запачкали брюки,
Я их не отмою вовек!
- Чего Вы шумите? Не брюква -
Арбуз!, молодой человек!
Теперь вам не нужен котенок,
Летите на пятый этаж:
В авоське у вас - арбузенок,
Зеленый, пузатенький, ваш!
1959?
|
Текст Кушнера, с его непривычной для Кушнера сочностью, напоминает -
ироничностью и упрощенностью - ранние тексты Битова из сборника "Большой шар", в
особенности главу "Гады и фрукты" /где, кстати, гадам дается подробнейшее и
детальное описание - тарантулы там, змеи, каракурты, а заключается она -
следующей строчкой - подглавкой: "Ну, а фрукты - совсем другое дело!"/.
Ну, с Андреем Битовым Кушнер из одного поколения, круга /Горный институт/ даже,
вроде, в друзьях. Но берем прозаика другого поколения, другого круга, но "близкого
нам по духу" Юрия Домбровского, "Факультет ненужных вещей":
"В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые.
Над
ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках - хватают один, другой, легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо:
"Слышишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!" - с размаху
всаживают нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на
конце Длинного ножа трепещет красный треугольник - алая, истекающая соком живая
ткань, вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах." /стр.48/
Совпадение? Или, скорее - единство стиля новой литературы? Битов туда же.
Два мальчика,
два тихих обормотика,
ни свитера, ни плащика, ни зонтика,
под дождичком
на досточке качаются,
а песенки у них уже кончаются.
Что завтра - понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один, другой опустится,
к плечу прибилась бабочка-капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи,
ни горя, ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем - за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я - один из мальчиков.
1961
/Виньковецкий сообщил мне, что это про него с Битовым.
Очень
может быть. - ККК/
В ЗАЩИТУ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА
Где кончаются ромашки,
Начинаются замашки.
Я признаюсь по секрету,
Мне не
нравится бензин.
Дальновидней всех поэтов
Был историк Карамзин.
Он открыл среди
полянок
Много милых поселянок,
Он заметил средь полян
Много милых поселян.
Что
они любить умеют, -
Обнаружил тоже он.
Пастушки, когда стемнеет,
Ходят к милым на
поклон.
Так проходят дни недели...
Что ж имеем в самом деле?
Люди лижут валидол,
На язык кладут лекарства,
А полезней вол и дол,
Деревенское лукавство.
Там и ста
не встретишь лиц,
Под окном не чинят кабель.
Пребыванье вне столиц
Здоровей
кремлевских капель.
/"Синтаксис",№3, 1960/
|
Далее стихи привожу по антологии Сюзанны Масси.
|
- - -
Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.
Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.
- - -
Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь - там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны
шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или
ласточек нет, дорогая?
БУКВЫ
В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец,
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман -
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.
А в русских буквах "же" и "ша"
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщичок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши,
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!
Летит еврейское письмо.
Куда? - Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?
- - -
Танцует тот, кто не танцует.
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не
гарцует,
С трибуны машет и кричит.
А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти
лошади - вдвойне!
- - -
Когда ты в Павловском дворце
Искала в зеркале барочном,
Роскошном, царственном, порочном,
Себя - как в тусклом озерце
Иль где-нибудь в пруде полночном,
Рябь набегала, и в конце
Той залы нам с лицом отечным
Являлась фурия в чепце.
Потом зеркальная вода
Светлела. В ней не без труда
Всплывала ты, с песком проточным
И пузырьками пополам.
Но долго жизнь казалась нам
Туманным делом и непрочным!
- - -
Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.
- - -
Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу,
И
солнце, и вид на Неву.
В каком-то печальном прозренье
Увижу свой день роковой,
Предсмертную боль, и
хрипенье,
И блеск облаков над Невой.
О боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.
Любое стерпеть униженье
Не больно, любую хулу
За легкое это движенье
С замахом
полы на полу.
За вечно наставленный ворот,
За синюю невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить.
- - -
То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;
То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, -
Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если
честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка,
душа!
Я привязан, ты - свободна.
СТОГ
Б.Я.Бухштабу
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал...
А.Фет
Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.
Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись
шелковым налетом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без
надежд,
Без звезд и тайных утешений.
Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая
рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!
ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ
1
Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она - молчит.
Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.
Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.
Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.
Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава Богу,
Ее не удивишь.
Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в
Царском где-нибудь.
Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со
стихом.
Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.
2
Вчера, вернувшись с похорон,
Я был метелью опален,
Не снился мне старик Харон,
А снился крик ворон.
Я сел - возник передо мной
Не Леты блеск, не мир иной,
А снег да холод ледяной,
Да холмик земляной.
А ночью, ужасом томим,
С подругой рядом, недвижим,
Лежал я, Смерть крылом своим
Мне обвевала лоб.
Потом, во тьме, еще дрожа,
В своих объятьях жизнь держа,
Я смерть ласкал, едва дыша,
И с богом спорил гроб. |
|