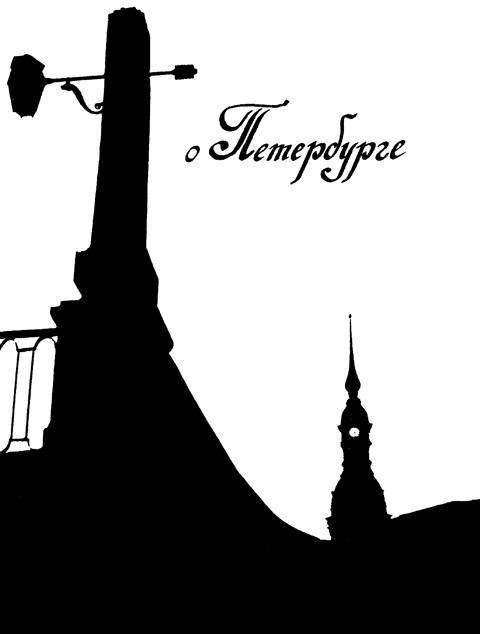| |
|
|
|
||||||
|
|
||||||
Сиднею "Мы росли в Петербурге..."
/Шкловский/ "Младенчество, Адмиралтейство..." Так
начинает Женя Рейн, сменявший город детства на "столицу нашей Родины". Его
ученик Бродский увидел в нем - "Еврейское кладбище около Ленинграда..." Но
написал "Петербургский роман" в стихах, который затем уничтожил. А зря. Бродский
жил на углу Пестеля и Литейного, рядом с церковью Спаса Преображенья
/действующей/. Церковь описана в поэме "Гость". На Пестеля же жил вначале
Гришка-слепой, мой соавтор. На Пестеля, под окнами уже уехавшего за кордон
Бродского, я играл на трубе в честь его, белой ночью. Был кем-то вздут за это.
Каким-то выскочившим соседом, которому потом читал стихи Бродского. Выпить
имевшегося у меня кальвадоса я ему не дал: он мне ушиб ребро. Кальвадос дал
одесситу, спавшему в скверике напротив Кирочной. О котором пелось:
Мы росли в Петербурге. Петербургом
подписаны стихи современных поэтов. Это очень возмутило Ойфу /члена СП/, когда
некто Генделев, гнусяк и поэт, вручил ему на секции стихи, под которыми стояла
дата и место написания - "Петербург". "Мы живем в Ленинграде!" - орал Ойфа.
"Простите, это вы живете в Ленинграде, а мы - живем в Петербурге", - вежливо, но
настойчиво объяснял ему Генделев. И действительно, если на Ленинград упадет
атомная бомба, останется - Петербург. Это в анекдоте, но и на самом деле
Петербург остался. Приезжающие москвичи чувствуют :
"Петербургу" посвящены стихи москвича
Губанова, "Прогулки с чухонцем" Владислава Лена, Петербургу и мне - стихи
Владимира Алейникова. Петербург впечатляет. Впечатлил он и столичного жителя
Веничку Ерофеева, впрочем, только две вещи - "Волково кладбище и Кузьминский".
Волкову кладбищу посвящены и стихи Лёна, он там имел "интеркорс" с поэтессой
О.Кавалли. О поездке в Петербург 10 лет говорили поэт Лимонов с художником
Ворошиловым, так и не поехали. Сейчас Лимонов в Нью-Йорке, но в юношеской мечте
признался мне. Что же говорить о тех, кто вырос в этом
городе? А город-то - монстр. Торчит плоская
громада Петропавловки. Наискосок от моста Свободы - торчит гранитная громадина
Большого Дома, о котором Бродский все в том же "Петербургском романе" писал:
"Литейный. Бежевая крепость. / Подъезд 4-ый КГБ." А напротив - психодром на
Арсенальной, за колючей проволокой. Наискосок от дома Блока - Пряжка,
сумасшедший дом, где бросился в пролет Гаршин. Теперь там пролеты затянуты
сеткой, да и от уколов никуда бросаться не хочется. Лиговка, сумасшедший дом.
Там сидела моя третья жена, недоутопившись в Неве. "Скворешник", больница им.
Скворцова-Степанова. Кресты - там сидел Володя Уфлянд и Тятенька, он же Крыса.
Много памятных мест в Ленинграде. Дурбольница на 5-ой линии, например. Не знаю, каким из сумдомов навеяна
гениальная поэма "Горбунов и Горчаков" Бродского. Городом. Город мансард и
подвалов, коммунальных квартир, город "золотых корешков" и вонючих проходных
дворов, город гудков и тумана, серого сырого дождя, город-антихрист, город на
костях. Город Блока, но "незнакомки" повывелись.
Всем была знакома в 50-е "Королева Марго", хозяйка поблядушек с Невского.
Невский очистили, сифилис переметнулся на Московский вокзал. По радио сообщения:
"Всем, кто пил газированную воду из автоматов в районе Московского вокзала,
явиться на проверку в вендиспансер." Бумажных стаканчиков в России не выпускают,
пьют из стеклянных - спасенье для алкашей: есть в чем распить купленную бутылку
водки. Или: "Всем шоферам такси, которых "обслуживала" /французской любовью/
буфетчица ресторана Московского вокзала такая-то - явиться на проверку в
вендиспансер по поводу сифилиса." В газетах об этом нет. Русская литература
молчит. Незнакомки работают, в основном, на Лиговке. Менты их знают и не
трогают. Здороваются. Город. Город-герой, выморенный на две
трети в блокаду. Пополнение шло из деревни. Шелуха подсолнухов шуршала под
ногами на Невском. Офицерские жены щеголяли в трофейных комбинациях, принимая их
за бальные платья. Заводы и стройки набирали новоприбывших. Давали общежития.
Фрося из Мордовии чистила снег вокруг Зимнего за полуподвальную комнату для нее,
мужа и детей. Мы с ней дружили. В дворниках работали поэт Аркадий Драгомощенко,
поэт Ожиганов, изысканный прозаик с нафабренными усами Борис Иванович Дышленко.
Кочегарили художники Арефьев, Васми и Шварц. Петербург жил люмпен-интеллигенцией.
Жил вопреки. Жил стенами, лепкой и фронтонами, жил славным прошлым вопреки
сияющему настоящему. Петербург жил. Волны новоприбывших
рассасывались по окраинам, в новые дома, в коммуналках же плодились и
размножались старожилы. Люди держались за старину. Соснора жил на Куйбышева, в
доме 1900-х годов, с бездействующим фонтаном во дворе, Горбовский - на
Пушкинской, рядом с Московским вокзалом, в безумной коммуналке /см.
"Кв.№6"/. Бродский, как я уже говорил, на углу Пестеля, в 5-ти или
6-ти-этажном доме постройки конца века. Я жил на Конногвардейском бульваре /ныне
Бульвар Профсоюзов/ с проходом на Галерную /ныне Красная/ улицу, в квартире
фрейлины ЕеИмператорского Величества, госпожи Кульневой. В квартире жило 9 семей
/27 человек/ на 11 комнат. Коридор тянулся почти до Красной, там была кухня, два
сортира и одна ванна. Пока нес яичницу с кухни, она остывала. Особенно приятно
было провожать гостью в сортир. Двери по очереди приоткрывались, жильцы смотрели
- с кем это Кузьминский? В коммуналке на Жуковского жила Юлия Вознесенская, в
двух комнатах, с двумя детьми и мужем. Из поэтов - только Алексеев и Куприянов
жили в Царском Селе /ныне Пушкин/, да Татьяна Григорьевна Гнедич. Гнедич и
Алексеев - в коммуналках, отдельную квартиру Татьяна Григорьевна получила лишь
за несколько лет до смерти. Оставались - мебель и книги. Мебель -
потому, что не на что было купить новую, а книги - потому что вымирали последние
бизоны и киты. Писатель и филолог Лев Успенский, недавно умерший, в свое время,
в 62-м году, сдал в утиль Спенсера, Ницше, Соловьева, "Записки Петроградского
религиозно-мистического общества" и пол-тонны других книг потому что негде было
хранить, и за ненадобностью. Я их подобрал, прочитал и ... пропил. Хранить их
было не по средствам. Спенсера я продавал и пропивал три раза. Разным знакомым. Петербург живет культурой и стоит на
культуре. Не юродивое христианство Москвы, а суровое мистическое христианство
Севера. Башенка Вяч. Иванова заместилась башенкой Кривулина. Кривулин жил на
Петроградской стороне, на Большом проспекте. Родители имели комнату в
коммуналке, эркер был выделен ему. Там он и породил журнал "37". А если не там,
то в другой коммуналке, где он снимал комнату. Журнал религиозно-философский и
литературный. Не мне судить о его качествах, я и в Вяч. Иванове разбираюсь-то
слабо. Тут важен факт. Петербург - город фабричный и заводской. В народ "ходить" не приходится. На Арсенале работал Ося Бродский, на ЛМЗ /Ленинградский Металлический Завод/ - переводчик Беккета Валерий Молот, на Кировском заводе вкалывал Коля Рубцов. Даже Кушнер - и тот преподавал в школе рабочей молодежи /а также - в трудколонии/. И Соснора где-то работал токарем. И Глеб Горбовский - по профессии краснодеревщик. Все это объединяется, складывается и получается картина, Блоку и не снившаяся. Питейные дома, по рассказам соседа моей нынешней супруги, Леонида Петровича, по прозвищу "дед" /он всю жизнь проработал мастером и начальником цеха на текстильной фабрике/, имелись на Старо-Невском в преизобилии. Сейчас осталось только три. Пивная /напротив клуба МВД им. Дзержинского/ и две мороженицы, где подают сухое. Поэтому пьют в парадных и во дворах. Пьют бормотуху, сухаря и водяру. Пьет творческая и техническая интеллигенция, никак не отставая от пролетариата. Леонид Петрович, глухой, как пень, по старым временам представитель рабочей аристократии, зачитывал меня наизусть Омаром Хайямом, я ему читал моего любимого Ли Бо. Дед, находясь на пенсии, выпивал регулярно пол-литра, маленькую и три бутылки пива. Жигулевского. Если перепадало еще, выпивал и еще. Утром, просыпаясь с перепою, я слышал, как Дед стучится в дверь: "Костенька, пивка не хочешь? Или -водочки?" Это он уже успел сходить в магазин, отовариться. На подносе возникало перед моей трещавшей башкой: рюмка водки /100 грамм/, стакан пива и бутерброд с килечкой. Куда там Булгакову! После чего читались стихи. Сетовал Дед: были чайные, трактиры, рюмочные, распивочные, не говоря за ресторации, а сейчас - одна пивная в крыле Александро-Невской Лавры /куда я хаживал в халате, на манер Сумарокова/ и рядом, за углом, рюмочная. За 50 грамм водки с несвежим бутербродом рвали 90, не то 95 копеек. Бутылка же водки стоила всего 4 рубля /плюс 12 копеек, но посуду можно было сдать/. Старый рабочий Леонид Петрович и молодой поэт Кузьминский согласно и мирно пили водочку, ругая Советскую власть. Снилось ли такое Блоку, который сам был алкоголиком, но ему не приходилось торчать у пивного ларька, не приходилось шустрить на маленькую и пить в парадняке. Интеллигенция и пролетариат в наше время куда как понимают друг друга. Это все о городе фабричном и заводском. Это не эссе, не роман, не рассказ, чорт
знает, что. Статья, полагаю. И как каждая статья, она базируется на фактах.
Потом идут творческие обобщения. Потому и перемешались - книга, водка, завод,
культура, сифилис, и проблемы творчества. Материал биографический, чувствуется
явное влияние Шкловского /это для Сиднея, чтоб не мучился/, отдельные элементы
Юрия Карловича Олеши и Булгакова. А вообще-то, Зощенко. Зощенко, пожалуй, был
первый, кто заговорил нормальным языком и о делах насущных. Бродский, "ученик"
Ахматовой, изобилует слэнгом. Между поэтикой Бродского и поэтикой Венедикта
Ерофеева /"Москва-Петушки"/ нет существенной разницы. Отличие состоит в том, что
Бродский все еще использует прокатный скелет акмеизма /поэзия, чать!/, Веничка
же говорит попросту, прозой. Ведь характерно, что и нынешние акмеисты перешли в
люмпены. Гиппиус "вполне футуристических" не пускала в дом: "они грязны,
топотливы, того и гляди, еще стащат что-нибудь." Ахматова же сама жила в
коммуналке. Не совсем в коммуналке, а все-таки: Ирина там, Анюта, муж Ирины
Роман Альбертович, чайник, Анютин муж Ленечка, его друг Асик Кузьминский, по
прозвищу "жидовская морда", человек с внешностью фюрера, супруга его, Оля
Докторова, Вероника Аренс и папенька ее, Гена-блохолов - все толклись на
пространстве трех сталинских комнат и одной малюсенькой кухоньки. А Анна
Андревна и матом, случалось, выражались. Здесь характерно проанализировать
позднего Михаила Кузмина, "клариста" /В "Аполлоне-77"/, тоже жившего в
коммуналке. Стирается грань между Зощенко и Ахматовой, и не случайно Жданов
понес обе эти крайности вместе. Да еще и Хазину досталось, о котором, правда,
мало кто поминает, а он весьма показателен /"Онегин в трамвае"/:
Анна Андреевна перчаток не носила. А
носила она - варежки. В них и теплее, и в "интеллигентности" никто не
заподозрит. Но не в поэзии. В поэзии Анна Андреевна оставалась в перчатках, и
подлым языком не говорила. Кстати, еще Пушкина обвиняли в употреблении "подлого
языка" в поэзии. Так уж "подлее", чем у Бродского - и не сыщешь. Бродский
говорит языком поколения, хотя - по форме - тяготеет к классике, к "культуре". Отсюда - эстетически, а не поэтически,
такая общность между Бродским и Соснорой, Бродским, Горбовским и Кушнером,
Ширали и Нестеровским, Стратановским и Гаврильчиком. Петербург дал нам тоску по
культуре, своего рода, ностальгию по какому-то, бронзовому или серебряному,
веку, по открытому окну в Европу /которое не закрывалось 214 лет/, по английской
и европейской поэзии, по Монмартру, а Лиговка и Подьяческая, Петроградская и
Васильевский - дали нам язык. Отсюда и "Богоматери предместья..." Бродского, и
"Сосед Котов" Рейна, и "Стихи о квартирной соседке" Горбовского, и Соснора, и
Ширали. Поэзия подчиняется не приказаниям
"свыше" /неважно, Брежнева, или Иваска/, а необходимости снизу и изнутри. И если
Бодлера, Верлена или Блока несло в притоны, то несло их по собственному желанию
/хотя поэт всегда, в своем роде, "outlaw"/, для освежения поэтической лексики и
материала. Так вот нас от этой "свежести" /см. у В.Ерофеева/ несет прямо в
обратную сторону. Но язык - язык диктуется нам улицей, и не нам его "изменять",
"очищать" и "облагораживать". Язык диктату не подвержен, он сам диктует, как и
что. То, что было у Пушкина и Бодлера "приправой", стало основой у нас, а
"пряностью" - стала "культура". Отсюда и "Петербург" у выродка Генделева, отсюда
и Греция у Роальда Мандельштама и Кушнера /кстати, именно у позднего "акмеиста"
Осипа Мандельштама такую роль играет жаргон, наряду с "классикой"!/. Нельзя мерить канонами прошлого
литературу настоящего. Литература и создает каноны. А нас все еще меряют аршином
Ахматовой. Либо эстетикой Пастернака. Рекомендую сравнить Пастернака с
Губановым. А равно и двух Мандельштамов. Не с точки зрения, кто "гениальней", а
с точки зрения - что характерно? А Петербург существует. |
||||||
|
||||||
/"Москва - Ленинград"/ /Прямо после "Петербурга" вставляю - показания ленинградца и москвича, поэта и прозаика Льва Халифа. Прямо по черновику. Не оставлять же чертям-буфетчикам! А переписанный текст - дальше пойдет, на своем ему месте. Он другой. Как зыбки эти отражения, уловленные тени друзей - это гонка за временем: наверстать - 20 лет, что мы раньше молчали, успеть, сказать - за себя и за всех. Потому и помещаю: черновик. ККК/
/Костя!
Объяснительная записка - это жанр - писал я в своей первой прозе "ЦДЛ"
/предшествующей этой и где-то потерянной при пересылке на Запад/. Из-за которой
меня и выгнали из ЦДЛ. Потом из СП - Союза писателей. А уж потом из Советского
Союза вообще. /17 марта 79 г. N.Y./ |
||||||
Потому и даю, вслед за Халифом - Охапкина, который многими советами своими помог
мне в антологии, за что и кооптировал его в редакционный совет на место
выбывшего для лечения Эдика Лимонова /по Европам шустрит, в Грецию рвется, да и
том-то у меня, в основном, петербуржский - где ж это харьковчанину-москвичу
знать?/. А Охапкин - он знает. С 14-ти в "Трудовых резервах" у Дара, с
Горбовским, Соснорой и Кушнером, с совершеннолетия - при Бродском и Бобышеве, а
сейчас ему - уже 35 по осени стукнет.
/То, что он пишет об антологии, я пока опускаю, а даю отрывок о Петербурге, в
котором можно найти любопытные параллели с, допустим, Пуниным/.
/От 16.1.80.С.П./
Так два произведения - одно позднего Гете, другое позднего Пушкина неожиданно
сошлись в своих идеях, но тайным, непостижимым образом. В одном /Фаусте/ - идея
социализма, как могилы цивилизации. В другом - "Остров малый", "Домишко ветхий".
- "Был он пуст и весь разрушен". "У порога - нашли безумца моего"... И все это -
Питер. Малый остров России /Европы/. И вот что случилось. "Быть пусту месту
сему". И "Был он пуст и весь разрушен". А как следствие сего разрушения -
железная необходимость в фаустовых работах, то есть в социализме - могиле
культуры и цивилизации, ибо таковы судьбы всего человечества даже от начала
истории в Египте и при конце оной в России. Не она ли, родная, названа в
Апокалипсисе "духовным Египтом" в противовес "духовному Содому" - Европе?
"Духовный же Вавилон" - это уж ваша благословенная Америка. Я уверен. Так мы и
подошли к концу истории, к последним временам." Хлебниковастенько, нострдамусинько... Где Тупицын цыфирь посчитать?!
Из письма следующего, от 18.1.80. СП.:
"Привет тебе от Володи Э. Я с ним учусь на курсах операторов газовых котельных.
Получаем по 65 р. Курсы рассчитаны на три месяца. Сдадим экзамены и получим
каждый свою котельную. Ожиганов /поэт,
см. 3-4 тт. - ККК/ уже работает в такой котельной. Ему даже дали комнатенку.
Правда, я его с августа не видел. Пазухин /поэт,
теоретик, с дипломом филфака - ККК/ тоже учится на того же оператора. Итак,
будем операторами у котлов. Перспектива хорошая - 120 р. Работать по 12 часов,
можно сутками. Итр /и-тэ-эр, инженерно-технический работник - ККК/ получают
меньше и целые дни торчат в присутствии, например, моя благоверная. Она инженер
как раз по этой части. У меня с ней вот уж больше месяца наладились отношения.
Кардионевроз мой прошел до следующего раза. Так что становится несколько легче.
Но долгов очень много. Теперь надо выплачивать. Кому мы только ни задолжали!
Кажется, всем понемногу. Такова наша жизнь. Можешь себе представить. Но об этом
нет желания писать. Лучше я тебе что-нибудь стихами спою. Вот послушай.
... Что в Новых Васюках, как у нас зовут
Нью Йорк, то и в Невограде, как я зову Питер вслед за Исаичем. Варианты: Невград
/Исаевский/ и Невгород /мой/. Последний, кажется, самый лучший, ибо традиционный
для наших мест. Новгород - Невгород. Хорошо, а? /Да уж получше, чем у мудака
Исаича - ККК/.
Письма из закордонья... 10 лет дружбы-вражды. Но дружбы больше. Так почему я
помещаю эти выдирки из писем во 2-м, не подобающем им, томе. Так ли уж не
подобающем? Система циклов, кругов, пересекающихся взаимовлияний, так ли уж не к
месту Олег, порождение двух сугубых противоположностей - ГОРБОВСКОГО и
БРОДСКОГО? Самого русского /русее Рубцова - см./ и - самого европейского, до
метафизики аж. Младший их брат, ученик, Охапкин.
В приписке: Пока еще слышно. |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||