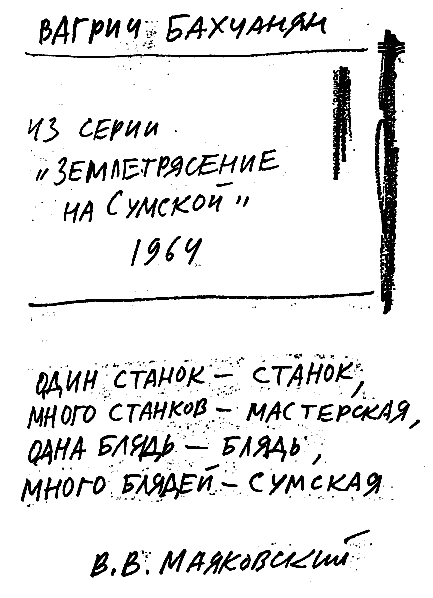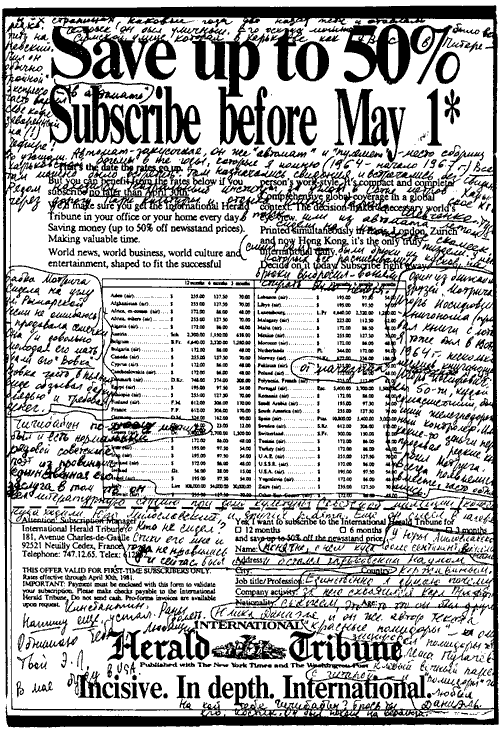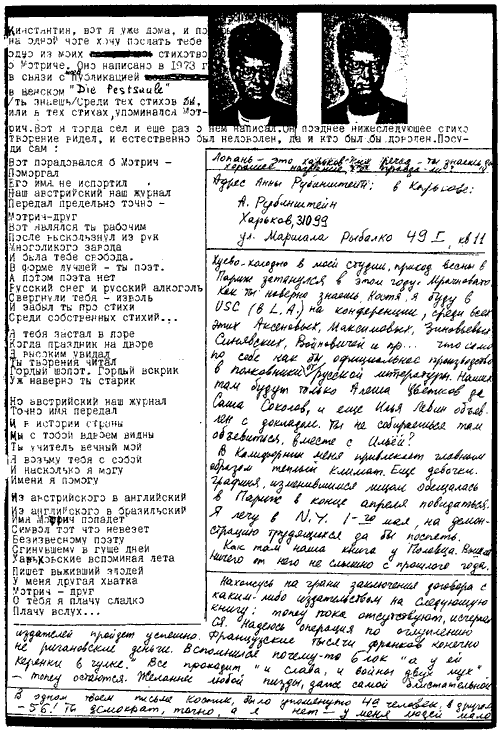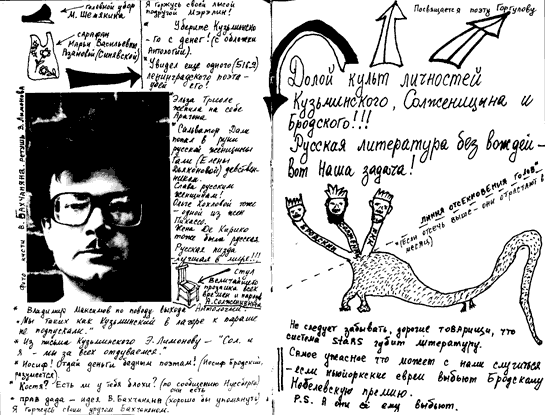| |
|
|
|
|||||||||
"ПОД ШИРОКОПОЛОЮ ЛИСТВОЙ, ГУЛЯЛ В ХАРЬКОВЕ МИЛОМ" |
|||||||||
|
В 1964 году /а значит уже 14 лет назад/, познакомился я с первым живым в моей
жизни поэтом - которого и по сей день порой вспоминаю в своих стихах и нестихах,
с человеком которому многим обязан - с Владимиром Мотричем. Был это высокий,
худющий человек с гнусавым голосом и красивым темным хорватским лицом. Дело
происходило в Харькове, в октябре переходящем в ноябрь, в парке Шевченко в
ложбинах уже успел скопиться снег. Снег шел и таял весь день, отстояв свое время
возле лотка с книгами /я работал от книжного магазина №41, продавал на улице
книги/ я уж собирался отправиться домой да был к моей неописуемой радости
приглашен двумя симпатичными литературными девицами Верой и Милой пойти в парк
Шевченко выпить вина и послушать стихи Мотрича. Сам поэт, державший девушек под
руки, сумрачно улыбнулся мне и одобряюще кивнул, мол пойдем. Не попадая с ними в
ногу все они были крупнее меня, я восторженно засеменил с ними к гастроному.
Мело.
Это была зима 1964-1965 гг. Я застал Володю Мотрича на самой вершине его горькой, необычной и в то же время по русски обычной судьбы. Теперь оглядываясь назад в процитированных строчках вижу я этот режущий мой сегодняшний слух мещанский "шифонер", фирменную бритву я еще могу перенести. Перебирая в памяти его стихи, с удовольствием натыкаюсь на его милую почти детскую песенку о деревянном человечке который
У человечка была возлюбленная - кукла, которая -
Сам Мотрич жил не в чердачной комнате но в подвальной. Чтобы попасть к нему в
комнату - нужно было войти с терассы одноэтажного старого дома, в самом центре
города, в комнату где жили его мать-уборщица и бабка - продающая семечки порой
на самом углу той же Сумской зайти за знаменитый шифонер, и открыть узкую дверь.
Проследовав по тонкому длинному коридору посетитель попадал в комнату Мотрича.
На высоте человеческого роста окно, в углу рукомойник кровать железная у стены,
пачки стихов и вариантов на столе и пишущая машинка фирмы Москва.
Не знал он того что
сам оказался безглавым поэтом. Ни одно его стихотворение никогда не было
опубликовано. Вознесенный на гребне всероссийского интереса тогдашнего к поэзии
в легенду, его знал весь город - он по старой русской традиции пил и гулял. Поителей и угощателей было много и самых разнообразных.
Был задушевный друг - книгоноша, бывший железнодорожник, любитель стихов Игорь
Иосифович. Были официальные поэты, Аркадий Филатов и Саша Черевченко, актер и
певец Леша Пугачов. Интерес к поэзии в огромной стране вдруг снизился в самом
конце шестидесятых годов и в начале семидесятых. Для Мотрича начался спуск вниз
в ту самую стихию жизни откуда он и пришел в поэзию. А пришел он в нее из
механического цеха завода "Серп и молот" где он калил и обжигал детали. После
ряда лет поэтической вольной жизни на улицах в садах и парках Харькова среди
восхищенных интеллектуалов было ему очевидно невозможно вернуться опять в ту
рабочую жизнь. Посему и стал он вести полубродячую загульно алкогольную жизнь.
Был он известен милиции, которая после бесконечных арестов пьяного Мотрича в
конце-концов отказалась его брать. Милиционеры просто старались его не замечать.
В пьяном виде случались с ним всякие несчастья - ломал он ноги - некоторое время
ходил на костылях и тоже пьяный. Порой поили его за остатки его былого
поэтического величия, какие-то знавшие его люди, потом он и вовсе пил со
странными темными личностями в углах и подворотнях. Первое время он еще старался
писать стихи, мало напоминающие лучшие его вещи, время от времени упоминал что
он пишет большую вещь, затем перестал даже вспоминать о стихах. Покинув Харьков
для Москвы в 1967 году я позже видел его только наездами, порой мне казалось
что ему неприятно меня видеть, так как я напоминаю ему прошлую славную его
жизнь. Мне даже казалось что он от меня прятался порой, когда я приезжал в
Харьков. Не знаю я что с ним теперь, сгинул ли он совсем или еще живет, бродит
по улицам Харькова совсем забывший свои стихи. Должно ему быть сейчас что-то
около 45 лет.
/продолжение когда-то последует/.
Я так бы и ждал этого когда-то, если бы, на мое счастье, два года спустя, Эдичка
не попал бы в Париже в больничку и, от не хуя делать, не написал бы на
больничных рецептах еще чего вспомнилось. Paris, April 6, 1981
/Следуют те же 5 цитат, что в первой части мемуара/, плюс:
Как видишь Кинстянтин, я очень хуево помню, но я выйдя из больницы пошлю тебе адрес Анны Моисеевны Рубинштейн, которая вдруг объявилась и стала мне писать письма, на которые я не отвечаю, ты ей напиши /умно/ и она тебе сможет написать и о нем, и выслать стихи. /Ане Рубинштейн я, естественно, не написал, я О НЕЙ написал - в поэме "Харьков" - а заводить переписку со вдовами живых поэтов мне как-то не в кайф... - ККК/ Мотрич женился, у него молодая и красивая жена /искусствовед/, пить он бросил, живет среди картин и книг в новой квартире на окраине. Меня это известие /о том что он жив и не пьет/ очень и искренне разочаровало. Образ "проклятого" поэта растаял. Я предпочитаю вспоминать его на костылях /ноги сломал в предыдущей пьянке/ - пьяного, сквернословящего, с недельной щетиной после запоя, каким я его видел в последний раз в Харькове. Анна пишет что он "просветленный". Просветленных в России 250 миллионов. Просветленных мне, Лимонову, не нужно. Я бы не хотел Мотрича сегодняшнего увидеть, и что бы он сейчас не написал - я уверен это неинтересно и скушно. /Очень ценное и искреннее признание! Почти слово в слово, но помягче - говорит Кулаков о трезвом Глебе Горбовском. То же говорят и о вдарившихся в христианство, "просветленных" - Красовицком, Куприянове, Галецком. Поэт ДОЛЖЕН БЫТЬ несчастен - дожившего до возраста Толстого Пушкина - вряд бы так любили, ДАЖЕ ТЕ, кто проклинает Дантеса - должны бы благодарить его, как и турецкую пулю для Байрона! Пишет Дед /Д.Я.Дар/ о своей встрече с Робертом Фростом - см. том 4Б - мрачновастенько... А Эдичку, за его признание - опять будут бить... - ККК/ Помню песенку о "деревянном человечке", которую исполнял "ПОЛОЖИВ НА МУЗЫКУ!"
Леша Пугачов - актер Харьковской филармонии, друг Чичибабина и Юлика Даниэля.
Опять же помню куски из нее, а не всю, и за порядок кусков не ручаюсь. Всем нам
харьковской богеме песенка эта очень нравилась, была что-то вроде гимна. Меня Мотрич называл "Эд". Родился он где-то между 1932 и 1934 гг. О стихах его я невысокого мнения, меня привлекал как раз "ПОЭТ" в нем. Первый
НАСТОЯЩИЙ живой Поэт. Как Александр Блок. В этом смысле он был настоящим. "Дома" Мотрич бывал редко. Человек он был уличный. Его всегда можно было
встретить на Сумской улице, которая в Харькове как у вас в Питере - Невский, Пил
он обычно "тройной" экспрессо /в "автомате"/ а дома часто варил себе кофе
заваренный на /!/ чефире! Его угощали. Автомат-закусочная, он же "автомат" и
"пулемет" - место сборищ харьковской богемы в те годы, которые я помню /1964 -
начало 1967 г./ ВСЕХ там можно было встретить. Там назначались свидания, и
встречались без свиданий. Рядом находился Театральный институт, за углом в сотне
метров - Харьковское КГБ, через дорогу Парк Культуры и Отдыха имени Тараса
Шевченко. Туда в парк шли из автомата летом - сидели на множестве скамеек, пиздели. У меня /сшил сам/ были брюки из кусков, на которых все расписывались.
Брюки выбросил - воняли, стирать было нельзя. Бабка Мотрича сидела на углу улицы Рымарской /если не ошибаюсь/ - продавала
семечки. Она /и довольно молодая его мать/ звали его "Вовка". Вовка часто в
пьяном виде обзывал бабку блядью и требовал денег. Игорь Иосифович - лет 50-ти, худой сумасшедший, бывший железнодорожный контролер. Имел какие-то деньги перепродавая редкие книги - поил Мотрича. Всегда появлялись вместе, часто обнявшись. И еще: Мотрич был около 6 футов, и худой; хорват, со всегда впалыми темными
щеками. Обезьянки казалось ему только и нехватало. Когда напивался - гнусавил и
становился наглым. Трезвый был изысканно вежлив и чист, как принарядившийся
рабочий. Да он и был рабочий по всем данным: по рождению, воспитанию. На Сумской /он жил рядом - на параллельной Рымарской/ - его ВСЕ знали как Поэта. И в автомате - варившая нам кофе тетя Женя знала его как поэта, и ВЕСЬ МИР вокруг автомата и нескольких книжных магазинов ... знал Мотрича, он был как скажем Харьковский Бродский, если не более, потому что он был ОДИН, он был как бы сразу Отец-поэт, не поэт - мальчик.
Мотрич был в 1964-1966 гг. влюблен в сестру Миши Басова - Наташу. /И она в него была - влюблена/. Миша Басов был художник-сюрреалист и просветитель Мотрича.
Высокомерный молодой человек с профилем Александра Блока и такой несоветский, до непонятности несоветский. Молодой человек этот скорее мог быть приятелем Андрея Белого или идеалиста Александра Ульянова, или кого . . . ? Наташа была умирающим лебедем в семье - у нее было что-то с кровью, чуть ли не гемофилия, все они /отец и мать и сам Басов и друг его - Юра Кучуков - который женился на Наташе позднее, а сейчас живет в New Yorke с другой женщиной/ вокруг Наташи прыгали, дрожали, рисовали ее портреты и писали стихи. Она выросла, переросла болезнь, стала ученицей Ростроповича в Москве, бросила художника своего Юру Кучукова и вышла замуж за какого-то жлоба. В 1969 кажется году она и Кучуков приходили к Володе Алейникову в Москве и у Володи конечно потом долго висели огромные кучуковские полотна.
Цикл рассказов очень сюрреалистических /около 30-ти/, которые я писал в конце 1966 и начале 1967 гг. /на один из них на "Мясника Окладникова" Юра Милославский написал даже пародию/ был сделан под влиянием Миши Басова, и его и кучуковской сюрреалистической живописи.
Теперь это кажется далекой грустной сказкой. ... Как ты знаешь я его /Мотрича/ часто
поминаю в своих стихах /посмотри книгу "Русское"/ и есть еще неопубликованные
стихи где он у меня появляется. Действовал я по методу /Ленина, что ли, не помню
точно/ - "выбери себе героя, догони, обгони его" - так я и воспринимал Мотрича.
Я Мотрича очень люблю до сих пор, тепло к нему отношусь - но "просветленный"
Мотрич - звучит ужасно, мое сознание противится - герой не умирает на постели,
герой умирает пьяный в парке, или как у Иосифа в парадном. И если он не умер в
парадном, не замерз в парке Шевченко, не провалился в речку Лопань сквозь лед,
то я это обстоятельство игнорирую. /Продолжение / Кинстянтин, вот я уже дома, и подпрыгивая на
одной ноге хочу послать тебе одно из моих стихотворений о Мотриче. Оно написано
в 1973 г. в связи с моей публикацией в венском "Die Pestsaule" /Ди Пестзойле -
Чумная колонна - под редакцией Фидермана, о чем см. в романе "Хотэль цум Тюркен",
неопубл. - ККК/ /ты знаешь/ Среди тех стихов, или в тех стихах упоминался Мотрич.
Вот я тогда сел и еще раз о нем написал. Он позднее нижеследующее стихотворение
видел, и естественно был недоволен, да и кто был бы доволен. Посуди сам:
. . . . . . . . .
А знаешь ли ты друг Константин, что имя Эдуард
получил я от своего военно-полевого энкэвэдэшного папы в честь революционного
романтика поэта Эдуарда Багрицкого /он же Дзюбин/ "по рыбам по звездам проносит
шаланду..." "Чтоб звезды обрызгали груду наживы: коньяк, чулки и презервативы...
"
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||